Новейший Плутарх Ящеркин Е.Л. — педагог
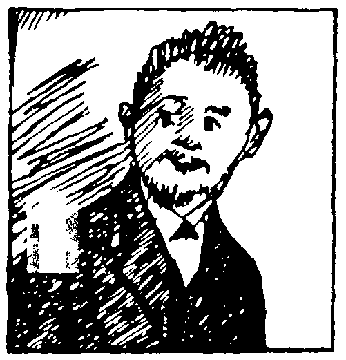
ЯЩЕРКИН Евгений Лукич
1864 — 1899
Известный педагог, автор системы «сознательного инфантилизма»
Евгений Лукич Ящеркин родился в г. Арзамасе Нижегородской губ. в семье мещанина, имевшего соляной лабаз на городском рынке. По окончании городского училища Я. благодаря выдающимся способностям удалось успешно выдержать вступительный экзамен в Рязанский учительский институт, который он и окончил в 1885 г.
Педагогическая деятельность Я., сперва протекавшая в русле русской педагогической традиции, началась на должности учителя словесности и географии в Трубчевской мужской гимназии (г. Трубчевск, Орловской губ.). Ни в образе жизни, ни в воспитательных методах Я. ничто ещё не давало оснований усмотреть в молодом учителе будущего теоретика и практика одной из оригинальнейших педагогических доктрин. Скудость биографических данных не позволяет нам установить, под воздействием каких именно философских и научных теорий складывалось его своеобразное credo, хотя, на наш взгляд, отголоски некоторых идей Руссо в доктрине сознательного инфантилизма очевидны.
Трубчевские старожилы свидетельствуют лишь о том, что на фоне медленно текущей жизни уездного города Я. в продолжение семи или восьми лет не проявил себя ничем выдающимся. По-видимому, со стороны своих питомцев он пользовался известным авторитетом как справедливый наставник и хорошо знающий свой предмет учитель; однако в особой напряжённости его умственной деятельности в этот период можно усомниться.
Та поражающая своей простотой идея, которая лежит в основе теории сознательного инфантилизма, осенила её автора внезапно, как своего рода озарение. Очевидно, как у многих одарённых натур, запас жизненных наблюдений, исподволь накапливавшихся где-то в подсознательной сфере ума скромного труженика на ниве народного просвещения, под влиянием неизвестного нам толчка вдруг озарился ярким светом, явив изумлённому разуму картину мировой жизни в новых соотношениях и закономерностях.
«Если мы хотим сделать человечество счастливым и гармоничным, — пишет Я. в своем основном труде «Стань ребёнком», — мы должны прежде всего правильно воздействовать на неокрепшую и податливую психику ребёнка. Если мы хотим на неё правильно воздействовать, мы должны понять её. Если мы хотим понять её глубоко и всесторонне, к этому нет лучшего пути, как уподобиться детям. Если же мы хотим уподобиться детям, то мы должны весь наш быт, наш душевный и житейский обиход построить так, чтобы воспринимать явления как дети, поступать как дети, рассуждать как дети. Только тогда преграда между нами и душою подростка или ребёнка — это проклятие всякого педагога — падёт; как бы перевоплощаясь в воспитуемого, мы получим такие возможности воздействовать на него, какие и не снились закоснелым воспитателям прошлого и настоящего».
Стройная логичность посылок и выводов, кристаллическая ясность изложения, неотразимая убедительность основной мысли делают это небольшое по объёму (всего 82 с.) произведение одним из драгоценнейших вкладов в сокровищницу русской педагогической литературы. Впервые уяснилась самому Я. эта идея весною 1894 г. и, как видно из дальнейших фактов его биографии, сразу захватила его с такой силой, что летние каникулы он целиком посвятил обдумыванию педагогической методики, равно как и проверки её экспериментальным путем. Глубоко честный и добросовестный по природе, наш мыслитель не мог успокоиться до тех пор, пока идея не получила безусловного подтверждения на путях строго научного опыта.
Первый эксперимент этого рода был произведен исследователем ещё в мае, в конце учебного года. Исходя из своей концепции перевоплощения педагога в ребёнка, Я. заключил, что ничто не даёт столь надежного ключа к пониманию души ребёнка или подростка, как повторение педагогом тех невинных шалостей и весёлых затей, которые свойственны непосредственному и жизнеутверждающему мирочувствию этого возраста. Однажды, собираясь после окончания уроков покинуть здание гимназии, Я. обнаружил, что его калоши прибиты гвоздями к полу. Эта довольно обычная, хотя и дерзкая, проделка школьной детворы, во всяком другом способная вызвать лишь раздражение, натолкнула вдумчивого наблюдателя на оригинальный эксперимент. На другой день, запасшись молотком и гвоздями, Я. с замирающим сердцем занял пост в темном углу учительского гардероба, ожидая подходящего мгновенья. Когда все преподаватели разошлись по классам, экспериментатор с чисто отроческим проворством не замедлил прибить к полу четыре пары калош. Но стук молотка привлек внимание гимназического служителя; Я. пришлось пренебречь последнею парой резиновой обуви, так и не получившей повреждений, и, спрятавшись в ретираде, наблюдать оттуда сквозь щёлку за растерянностью отставного унтер-офицера, тщетно пытавшегося обнаружить нарушителя порядка.
С мужественной откровенностью рассказывает наш исследователь о том, как гимназическое начальство заподозрило в недопустимой шалости одного из гимназистов III класса, который и понес наказание вместо истинного виновника. К сожалению, нет такой отрасли науки, которая в своем развитии не требовала бы некоторых жертв... разница — только в количестве! К тому же эту трагическую коллизию — вынужденное лицезрение того, как за твой поступок страдает невинный, — тоже следовало испытать и лично пережить всякому, кто стремился понять до дна детскую душу.
Окончание учебного года заставило Я. перенести свои опыты из стен гимназического здания в жизненную сферу трубчевских обывателей. Объектами послужили на первых порах хозяева скромной квартирки исследователя — престарелый о. Нектарий — священник церкви Сорока мучеников, известный своей строгостью и благочестием, и его супруга. Оба сына досточтимой четы проходили в это время курс в Орловской семинарии, и тихий домик на Ильинской улице давно уже отвык от шума детских игр. Это обстоятельство особенно ободрило исследователя, т. к. здесь, за неимением несовершеннолетних, уже никто не мог поплатиться за его предприимчивость, а тайну экспериментов можно было уберечь от преждевременных разоблачений.
Супруга о. Нектария имела привычку посвящать каждый пятый день недели, и особенно вечер, изготовлению особого рода пончиков и других изделий питательного свойства, долженствующих скрасить в субботу и воскресенье домашний стол служителя церкви. О. Нектарий в таких случаях отходил на покой, не дожидаясь матушки, а последняя довершала уединённо и, так сказать, келейно дневной труд в своей маленькой кухне. Кухня эта сообщалась с жилыми комнатами узким, но довольно длинным коридором, и это-то обстоятельство и навело Я. на идею очередного эксперимента.
В один из таких вечеров, дождавшись, когда лёгкое похрапывание возвестило, что о. Нектарий уже не может послужить помехой научным изысканиям, Я., сбросив ботинки и ступая на цыпочках, снёс из столовой и гостиной все стулья, кресла и даже маленький столик в коридор и бесшумно нагромоздил их друг на друга, так, что на протяжении двух саженей — от двери кухни до двери спальни — образовалось заграждение высотою в человеческий рост. Замирая от счастливого предчувствия, свойственного в подобных случаях десятилетнему возрасту, педагог дождался в своей комнате той минуты, когда усталая старушка, давно уже помышлявшая о заслуженном отдыхе, попыталась приоткрыть дверь из кухни в коридор и, встретив препятствие, довольно долго не могла, по-видимому, сообразить, в чем дело. Но и уразумение происшедшего не облегчило её положения: опасаясь разбудить строгого и взыскательного супруга грохотом обрушивающихся стульев и теряясь в то же время в догадках о виновнике странного явления, она целых полчаса пробиралась через баррикады, а потом разносила мебель по местам. Происшествие было столь необъяснимо, что даже наутро старушка не посмела поведать о нём о. Нектарию из опасения остаться непонятой или даже заподозренной в нелепых шутках, не подобающих её возрасту.
Следующим объектом опыта явился сам о. Нектарий. Возвратившись уж заполночь от благочинного, где вечер был проведен за преферансом, священник, как всегда, отпер дверь своего домика ключом и, не предчувствуя ничего дурного, шагнул в гостиную, через которую лежал путь в спальню. Но едва успел он сделать по гостиной два-три шага, как нечто тонкое и упругое, хотя и несколько отступившее под его натиском, преградило ему дорогу. В темноте священнику удалось убедиться на ощупь только в том, что это — бечёвка или шпагат, протянутый поперек комнаты на аршин от пола. Недоумевая, зачем понадобилось матушке развешивать белье для просушки именно в гостиной, да и к тому же над самым полом, о. Нектарий попытался свернуть вправо, но, к чрезвычайному его раздражению, и там дорогу ему преградила верёвка. Он подался влево, наткнулся на невидимую препону в третий раз, и в ту же секунду силуэт большого фикуса, смутно выделявшийся в отдалении на фоне окна, качнулся — и внезапный грохот, соединённый со звоном разбивающегося цветочного горшка, возвестил о печальной судьбе экзотического растения, слишком хрупкого для наших жизненных условий.
Наставительный и требовательный по своей природе о. Нектарий, однако, редко сердился на свою супругу так, как в этот раз. Когда матушка, поднятая с перин шумом опрокидываемой мебели и голосом владыки дома, вбежала в гостиную со свечою в руке, ей пришлось выслушать суровое обличение в том, что, найдя будто бы для сушки белья столь неподходящее место как гостиная, она даже не озаботилась вовремя снять веревки, чем подвергнула опасности жизнь богом данного ей мужа. Тщетно божилась бедная старушка, что она здесь ни при чем и что это — проделки домового. Наставник человеческих душ остался непоколебим в своем заблуждении до самой осени, пока ход событий сам собою не привел хозяев домика к пониманию истинных причин загадочных явлений.
Но ограничивать поле своей деятельности пределами этого домика отважный исследователь не намеревался. Сведя знакомство с окрестными мальчишками, в числе которых было и два гимназиста, он проводил каникулы среди детворы, разделяя все её забавы и всё глубже проникая в неисследованные пласты детской психологии. Рыбная ловля, хождение за грибами и ягодами, ловля раков, игра в бабки, купанье в речке — всё было испробовано и изучено, и Я. чувствовал, как молодеет его дух, как бы возвращаясь к девственной поре своего существования. Дети, сначала никакого удовольствия от проникновенья взрослого, да и к тому же учителя, в их жизнь не испытывавшие, постепенно прониклись к Я. доверием. Он убедился, что ничто в такой мере не способствует крепкой спайке и установлению дружеских привязанностей, как совместные шалости с их круговою порукой.
Известно, что мальчик, для которого не таилось бы острых наслаждений в набегах на чужие сады за зелеными яблоками, — лицо абстрактное, мифическое, выдуманное морализирующими наставниками, ничего не понимающими в детской душе. Разумеется, и в Трубчевске набеги эти совершались постоянно, но Я. всё-таки не решался принять в них участие из опасения, что кто-нибудь из малолетних может разоблачить тайну. Но потребность изведать и это детское переживание была столь велика, что наш исследователь решился предпринять набег на яблоки в одиночестве. В безлунную ночь прокрался он к забору, опоясывавшему плодовый сад купца Гамова, и, царапаясь о гвозди, которыми был утыкан конек забора, кое-как перевалился в сад. Эксперимент удался как нельзя лучше: все переживания, которые так страстно хотелось испытать отважному мыслителю, были испытаны — и не шутя, а всерьёз: он крался по росистой траве среди яблонь, он карабкался на деревья, он настораживался от шума трясомых веток и падающих яблок, он замирал от поднявшегося во дворе лая и топота бегущих ног, он срывался с дерева и опрометью бежал к забору, чуть не выкалывая себе глаза встречными ветками, он ухватывался за верхнее прясло и судорожно подтягивал туловище, он уже перекидывал на ту сторону одну ногу — и чувствовал, как преследователи ухватываются за другую. С торжеством, с чувством освобождения от величайшей опасности он пережил то мгновение, когда в руках преследователей остался только его левый сапог, и, возбуждённо дыша, помчался по улице, в темноте оступаясь с дощатых тротуаров и попадая разутой ногой в лужи. Упоительно прекрасен был и завершающий момент опыта, когда в безопасности, уже в своей комнате, психоиспытатель мог предаться чисто детской весёлости, вспоминая пережитое и убеждая себя в прелестном вкусе яблок, таких кислых, что начинали ныть зубы и сводило скулы.
К началу учебного года Я., по свидетельству трубчевских старожилов, изменился так заметно, что это не могло укрыться от взора директора гимназии. Возбуждённое, всегда приподнятое настроение, безразличное отношение к своему костюму, загадочная улыбка, постоянно блуждавшая на его устах, неожиданный и беспричинный хохот — всё это заставило директора гимназии повнимательнее присмотреться к педагогу, дозволявшему, как это казалось другим учителям, «что-то слишком уж фамильярное отношение к себе» со стороны гимназистов. Однако то, что могло показаться со стороны фамильярностью, в действительности было новым типом отношений: активное вживание в детскую психику и практика сознательного инфантилизма привели к исчезновению всех естественных границ между воспитателем и воспитуемым, в то же время сделав Я. в глазах подрастающего поколения высшим авторитетом по части всевозможных затей.
В нашей художественной литературе не раз отмечалось уже, что романтическая мечта о бегстве в Америку, издавна знакомая русским школьникам, в конце прошлого века приобрела особую остроту. Естественно поэтому, что вскоре Я. обнаружил существование проекта такого рода среди своих учеников и не замедлил придать ему ту художественную законченность, которая отмечает все начинания нашего исследователя. Во всяком случае, без участия взрослого человека вряд ли удалось бы юным конквистадорам убежать дальше ближайшей железнодорожной станции. Следовательно, тот факт, что обнаружение и поимка беглецов состоялись только уже на Берлинском вокзале в Варшаве, неоспоримо доказывает вдохновляющую роль и творческое воздействие Я. Так или иначе, 35-летний мыслитель и два гимназиста IV класса после четырехдневного преследования были задержаны и доставлены в г. Орёл. Это прискорбное сообщение, заставившее Я. немедленно подать в отставку, совпало с выходом в свет издания Орловского книжного магазина Волкова знаменитого исследования «Стань ребёнком», где с обезоруживающей искренностью изложены не только заветные идеи автора, но и открытая им методика, опирающаяся на ряд подробно описанных экспериментов, лишь малая доля которых была упомянута нами здесь.
Невозможно освободиться от чувства горечи и, мы бы сказали, некоторой неловкости за педагогику 90-х гг., за её косность и страх перед всем новым и свежим, когда знакомишься с теми откликами на этот труд, полными рутинерского негодования, глубокого непонимания и даже глумления, которые не замедлили появиться в общей и специальной печати не только в Орле, но и в Петербурге. На этом фоне позиция известного педагога-теоретика Щукина, занимавшего в то время пост попечителя Учебного округа (именно от него зависела дальнейшая судьба Я. Как педагога), кажется сравнительно гуманной и, во всяком случае, честной. Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, Щукин категорически отверг версию об умопомешательстве Я., равно как и оскорбительное подозрение в злонамеренно-хулиганском характере его опытов. Опубликованная в «Журнале Министерства народного просвещения» статья Щукина радует той принципиальной высотой, до которой смог подняться в этом случае непримиримый противник теории сознательного инфантилизма.
Невозможность продолжать педагогическую деятельность в условиях царской России заставила Я. подумать о приложении своих сил и об осуществлении своих заветных идей вне отвергшего его отечества. Опасаясь, что в любой другой цивилизованной стране он может встретить столь же глубокое непонимание, Я. остановил свой взор на одной из стран, с древних времен пребывающих в состоянии неомрачённой инфантильности, где дети народа, не искалеченного европейской цивилизацией, с распростертыми объятиями встретили бы автора учения «Стань ребёнком»: на Абиссинии. Как раз в эти годы отбытие русской миссии к Менелику II, научные экспедиции д-ра Елисеева, Булатовича, Артамонова, укрепление связей между русской и абиссинской церквями повысили интерес русской общественности к далекой империи «чёрных христиан».
Надежда Я. на Менелика, преобразователя своей страны, вполне оправдалась: обласканный императором, русский мыслитель получил возможность устроить школу в недавно присоединённом к Абиссинии городе Харраре, где училище, основанное на принципах русского (т. е., как казалось Негусу, христианского) воспитания, должно было служить противовесом влиянию магометан, издавна обитавших в этом городе. Незнание абиссинского языка вполне возмещалось изобретённым Я. специально для этого случая языком жестов.
К сожалению, почти единственным источником, позволяющим нам составить представление о жизни Я. в Харраре, остаются его письма в родной Арзамас брату Порфирию Лукину — письма всё более редкие, более лаконичные и, наконец, после одного сообщения колоссальной важности прекратившиеся вовсе. Очевидно, своеобразие жизненных условий, в которых оказался русский педагог, ещё усугублялось им по собственной воле.
В короткое время он сделался в буквальном смысле слова кумиром воспитанников, ибо основная мера его воспитательного воздействия, развивавшая в учениках смелость, отвагу, волю, предприимчивость и весёлый, легкий характер, заключалась во всевозможных проказах, проводимых группой мальчиков сообща с педагогом. К сожалению, местные землевладельцы и духовенство не сумели в должной мере оценить этот передовой метод. Из одного глухого замечания Я. можно заключить даже, что он сделался объектом покушения, к счастью — неудачного. Остается не вполне ясным, как именно был организован этот возмутительный акт варварства; во всяком случае, во время скачки Я. со своими учениками на жирафах животное, нёсшее на себе воспитателя, было вероломно загнано с открытой местности под древесную сень; не умея остановить невзнузданное животное, Я. запутался растрёпанной шевелюрой в древесных ветвях и, сорванный с жирафа, повис, подобно библейскому Авессалому, на аршин от земли.
Неизвестно, чем окончилась бы для Я. эта фанатическая вражда, которую он возбудил к себе со стороны реакционных кругов абиссинского общества, если бы новый перелом в его жизни не расторг его связей не только с абиссинским, но и со всяким человеческим обществом вообще.
«Поделюсь с тобой, любезный Порфиша, — пишет он брату в своем последнем письме, — ослепительными перспективами, передо мною открывшимися. Язык жестов, об усовершенствовании мною которого ты уже знаешь, оказывается ключом к целому миру открытий. Это тот самый язык, отсутствие которого мешало нам до сих пор перебросить мост через пропасть, отделяющую человека от высших животных. Я убедился, что обезьяны понимают меня порою не хуже, чем абиссинская детвора.
Будь что будет, но в интересах гуманнейшей из наук — педагогики я решил отныне посвятить себя просвещению при помощи этого языка несчастного отверженного племени, вся вина которого состоит в обладании хвостом».
В итальянском католическом журнале «Fides Apostorica» за 1907 г. нам удалось обнаружить интереснейший документ, проливающий свет на роковую минуту в биографии Я. — минуту его исчезновения из человеческого общества. Документ этот — воспоминания настоятеля католической церкви в Харраре Бонифацио Кончины о его деятельности в Абиссинии. Страницу этих воспоминаний, относящуюся к Я., приводим полностью.
«С некоторого времени все, кому было доверено духовное руководство населением г. Харрара, были обеспокоены появлением некоего русского по имени Черкино (Cerhino). Этот авантюрист или, как думали некоторые, помешанный имел, по-видимому, на своей стороне связи в правительственных сферах, ибо ничем иным невозможно объяснить покровительство, которое оказывал ему император Менелик. Черкино основал в Харраре некое подобие, вернее, странную карикатуру училища, общаясь с воспитанниками путем жестикуляций. Вместо передачи абиссинским детям полезных знаний этот самозваный педагог занимался только тем, что выдумывал и вместе с воспитанниками совершал дикие непростительные выходки. Особенно пострадали от его бесчинств следующие лица: армянский негоциант Мирзоянц, которого этой компании удалось испугать, инсценировав появление льва, вследствие чего негоциант, спасавшийся бегством, вывихнул себе ногу; священник-ортодокс Дебра Либанос, которого хулиганы довели до обморока, мороча его привидениями; мулла Хассан-Керим, поставленный ими в положение, о котором стыдливость заставляет умолчать, и многие другие. Жалобы императору и митрополиту в Энтото, равно как и вмешательство раса Заиту, ни к чему не приводили. Наконец к счастью для Харрара, в мозгу этого русского мелькнула светлая идея, и он уразумел, что общество обезьян подходит ему гораздо больше. Так как обезьяны в изобилии водятся в окрестных лесах и являются свирепыми истребителями фруктов, то владельцы садов в Харраре обращаются с этими животными без излишней нежности. Черкино взял животных под свою защиту, и много раз его видели с группами обезьян, обменивающегося с ними недвусмысленной жестикуляцией, способной погрузить в печальные размышления всякого христианина. Наконец, автор этих строк вместе с другими жителями оказался непосредственным свидетелем странной и возмутительной сцены.
Однажды в лунный вечер подле городских ворот обезьяны подняли ужасный шум. Выйдя из ворот, я увидел, что шум этот, как и вообще всякий беспорядок в Харраре, вызван всё тем же Черкино: залитый лунным светом, он носился по лужайке с обезьянами в экстатическом танце. Приблизившись к опушке леса, несчастный обернулся к городским воротам и, видя нескольких человек, с нескрываемым осуждением наблюдавших его действия, стал совершать нечто вроде реверансов и особых движений руками, имевших, несомненно, смысл прощального приветствия. Затем, подхваченный с обеих сторон обезьянами, он устремился к деревьям и, с поразительной ловкостью вскарабкавшись по сучьям, исчез в листве. По ликующим крикам стаи можно было заключить о том, как она удалялась со своим новым товарищем в направлении девственных тропических лесов Шоа. Никаких известий о дальнейшей судьбе этого русского население Харрара не дождалось».